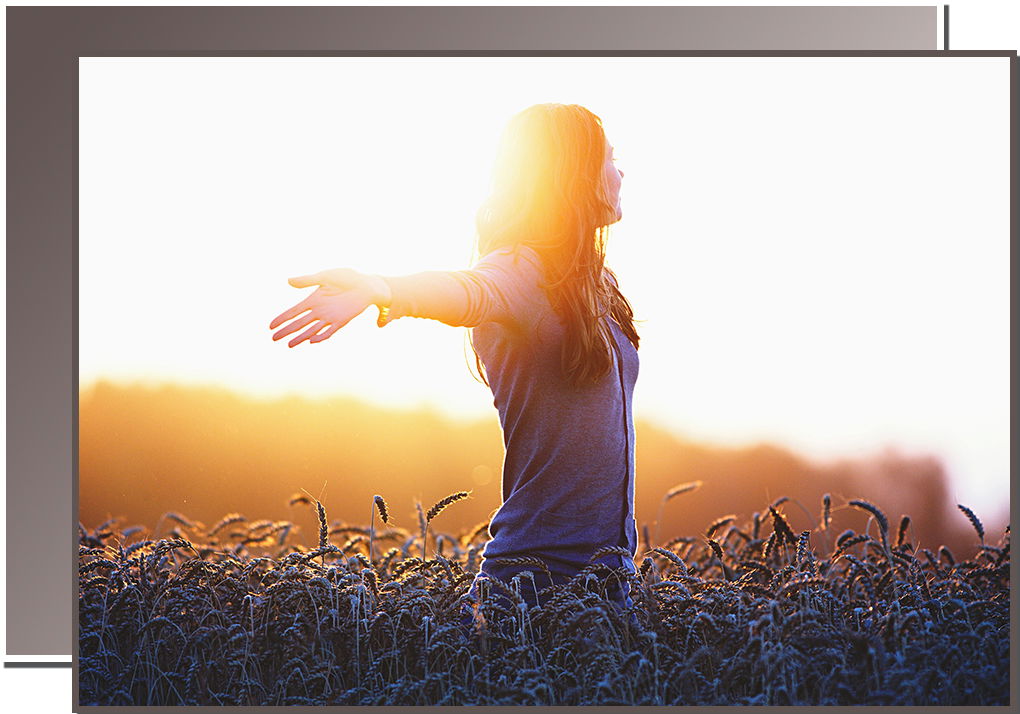
Выбор человеком собственной жизни, пишет Д. Нортон (Norton, 1976), предполагает не только его внутреннюю целостность, но и принятие осознанной ответственности за реализацию «личных истин» – того, о чем раньше он догадывался лишь интуитивно. Процесс такой жизни сопровождается отчетливым чувством внутренней правоты, которое впоследствии само способно стать для субъекта важным критерием различения «верных» и «неверных» желаний. Удовольствие от реализации первых достигается нелегко, требует усилий и дисциплины, в то время как «простые» наслаждения («счастье» в традиционном понимании) возникают при реализации вторых. Чувство эвдемонии способно направлять индивида к тем видам активности, с помощью которых можно приблизиться к максимальному самовыражению и самоосуществлению – лучшему, на что человек способен.
Эвдемонизм, таким образом, относится к области моральной философии, поскольку дает четкие ответы на вопрос «Как надо жить». Предполагается, что каждый человек имеет «истинное Я» и этическую обязанность жить в соответствии с ним. Реализация наивысшей ценности (индивидуального потенциала) тем самым создает наивысшее счастье – нечто отличающееся от общепринятых трактовок данного понятия. Это означает и выбор своей судьбы, собственного жизненного пути, который, по выражению Дж. С. Милля, должен быть выбран индивидом как раз потому, что является его собственным путем. Поэтому эвдемонизм представляет собой философское направление, в котором действует буквальный смысл слов: ведь метод в переводе с греческого означает путь.
Разумеется, индивид способен (временно) сбиться с правильного пути. Подобное происходит в случаях, когда необходима борьба за выживание; когда человек поддается социальному давлению и перенаправляет свою активность на другие дела; наконец, когда он скатывается к пресловутому гедонизму и погоне за простыми удовольствиями, которая несовместима с уникальным совершенством. Также и необходимость тяжелого труда, который должен быть исполнен при эвдемонической жизни, способна «отвратить» от реализации своего потенциала.
И. Кант указывал на потребность в моральном обновлении именно у зрелого человека. Позднее эту же закономерность отмечал К. Юнг при описании индивидуации и А. Маслоу в анализе самоактуализации. Да и сам Аристотель брал в обучение «эвдемонической жизни» мужчин не моложе сорока лет. «Возмужалость означает второе самоприобретение», – выразился в этой связи М. Штирнер [Штирнер, 2001, с. 35].
С нашей точки зрения, указанному явлению возможны два основных объяснения. Первое заключается в том, что индивиду (дэймон которого «неизменен» на протяжении жизни) в зрелом возрасте просто «надоедает» гоняться за пустыми и обманчивыми удовольствиями окружающего мира, и он, наконец, обращается к поискам счастья в самом себе («дверь к счастью открывается внутрь»; «дверь, к счастью, открывается внутрь»). Другое (более обоснованное с позиций современной психологии) объяснение предполагает изменчивость (развитие) врожденного потенциала в течение жизни (в соответствующейему активности), в результате чего он с годами все громче заявляет о себе, подает более отчетливые сигналы – «просится наружу».
Вторая половина жизни более привлекательна для «эвдемониста» еще и потому, что он легче встречает старость и связанные с ней ограничения. Ведь ограничивать, в первую очередь, приходится гедонистические удовольствия, и так не являющиеся главной целью при эвдемонии. Предположим, особенности пожилого возраста требуют перехода на определенную диету. Данный переход происходит у индивида гладко, если пищевые наслаждения не относятся им к числу приоритетных. Для такого человека важно, чтобы продолжал успешно работать его мозг, что обычно имеет место у творческих людей до глубокой старости. У индивида же с преобладающей гедонистической ориентацией старение нередко вызывает страх, поскольку подразумевает уменьшающуюся способность получать удовольствие – единственное, на что он привык делать ставку. Отсюда и вопли (производителей косметики, в первую очередь) о том, что, дескать, жизнь женщины заканчивается после сорока лет. Забываете, господа, что кроме внешней красоты (у некоторых) есть еще красота ума, над которой время не властно.
Если при эвдемонической жизни дискомфорт больше относится к «низшим», телесным уровням функционирования и может быть связан с необходимостью самопреодоления, приложения всевозрастающих усилий в свободно выбранной индивидом деятельности, то при гедонизме «тело» как раз получает свое удовлетворение. Однако эвдемония создает простор и «комфорт» на высшем уровне – для реализующейся Личностной Уникальности, в то время как при гедонистической погоне за удовольствиями нарастающий душевный дискомфорт связан с общим чувством бессмысленности существования из-за нереализованного индивидуального потенциала.